- Происхождение Цвета из особенности | Цвет – это особенность общего в Каждом. Иначе говоря, когда единичное присваивает себе в ходе миро-познания часть идеального общего, это общее становится Каждым. При этом Каждое как не-моё Я становится моим Ты. То есть, я присваиваю себе не-моё Я за счёт того, что делаю его своим Ты. Ты – родное мне благодаря тому, что оно для меня стало особенным, а не равнодушной серой массой равноценных «Каждый». Как только тут появилось Ты, моё когито (я мыслю) катастрофически… исчезает. «Ты мыслишь» означает, что я не могу «мыслить»! Ведь «Ты мыслишь» ставит вопрос о моём праве мыслить – праве, дозволенности мыслить, а не способности и возможности мыслить (по Канту). Если Ты мыслит, тогда возможность ему не нужна – ибо для м
В чём же смысл особенности Каждого как нашего Ты? В правде. Согласно принципам медицины, нам предписано жить и вести себя, исходя из презумпции научно установленной Нормы. Но сверх этой Нормы тела, действует свобода нашего Духа, отягчённого уже не Нормой, но Бездной как нашего Другого. Эта свобода и есть наша Правда. Отсюда и независимость нашей жизни в ее обстоятельствах от нашего Я. Я свободно от Правды – вот истина Я! Вот почему Я взывает и воет сердечно по Другому.
Когда Я попадает в Дух, оно становится для себя Ты. Рикёр использовал схожий ход в своей замечательной книге «Я как Другой», но у него этот ход был скорее герменевтический, когда Я обретало свободу интерпретировать себя как Другого. Но спросим себя – что такое такая интерпретация? Это уклонение от Нормы, бегство от себя, добровольное безумие, счастливое затмение ума. Вот почему отвечу еще радикальнее. У меня Я становится Другим бытийно, но так, что в разрыве между Я и его Ты помещается их Другое, которое и делает Я – его Ты, а Ты – его Я. Мир превращается в огромное Общежитие, и Дом теряет свои основания.
- Дом без родины | Если уподобить метафизику дому, то поиск себя в мире неизбежно приведёт к расставанию с родным домом. Все поиски себя в философии и литературе прошлого века сводились к драме такого расставания. «Домой возврата нет», заключает Томас Вулф одиссею своего героя, родившегося в семье камнетёса, создавшего надгробные памятники на местном кладбище. Такова метафизика. Она прекрасна и мертва. Сейчас это общее место всей западной философии. Она – космополитична. Философ подобен сейчас туристу, человеку искусства или трудовому мигранту, переезжающему, как перекати-поле, из своей философской струны в реальную страну чужой себе культуры и не берущего близко к сердцу проблемы с культурной и философской идентичностью и «дымом родины». Мысль везде пахнет одинаково. Ведь она – в Одном. Всё, что отличается в многом от Одного в многом – не важно, не интересно.
Теперь Вы легко поймёте, что значит следующее из предыдущего тождество Цвета и Ты, взятое как уравнение Ничто, в котором неизвестным и потому невидимым станет Ваше собственное сознание. Не ищите его – оно перед Вами. Как будущий Дом.
- Плащ без «плаща» | Как только я обрисовал в общих чертах свою идею и проект Цвета в Плане плаща, от плаща можно, конечно, легко отказаться. Но не исчезает ли с концептуальными лесами теории и ее лесные ароматы, ее очарование и тайна, прелестная бестолковость строительства? Отчасти, понятно, исчезает. Каков же тогда этот самый антиментальный плащ без метафоры «плаща»? Точнее, в чём самый принцип антиментальности? Как уклониться от темноты нашего сознания и сохранить себя, что называется, «в уме»?
Извините, что я не даю Вам самим подумать и тут же предлагаю ответ. Скорее всего, он неверный. Надо положиться на «ветер в голове» – и улететь в свои мысли. В них эйфория умного Света обращает поток сознания вспять, так что теперь не Свет разума освещает свой предмет, но Цвет наших мыслей как их саморазличие покрывает источник Света плащом всеведения, а потому сознание заменяется о-сознанием.
Смысл – это не более, чем плащ и поле, помогающие найти и рядоположить противоречия и сбои, и сшибки, и ошибки, чтобы, поняв их близость Свету сознания, осознать их все как оттенки одного и того же Цвета. НЕ связь, а соседство – вот истинная Тайна существования. Мы такие разные, но нас нельзя связать даже одной верёвкой, зато можно легко посадить всех на один стул.
НЕ связь, а соседство – вот истинная Тайна существования. Мы такие разные, но нас нельзя связать даже одной верёвкой, зато можно легко посадить на один стул.
Ветер дует даже там, где нет возможности измерить его скорость. Подобно этому смысл проникает и туда, где пока он еще не может быть помыслен. Что же создаёт возможность такого удлинения и расширения осмысленности одной и той же мысли? Если считать мысль субстанциональной (протяжённой), мы не поймём ее различия в разных субъектах. Если сочтём мысль субъективной, не будет ясна ее общность. И наоборот, приняв ее за общее, потеряем ту самую ее способность сопротивляться очевидному и уклоняться от уже доказанного. Сведя же мысль к феномену, мы уравняем ее с процессом мышления, тогда как, отождествив с дискурсом, не будем знать, как рождается ее вне-языковая не-очевидность.
Если смысл превосходит круг мыслимого, то действующее превышает точно так же круг осмысленного. И мыслимое (наука), и осмысленное (культура) – только часть жизненного мира людей. История человечества движется в сторону расширения действующего и сужения мыслимого. И для дальнейшего моего текста очень важно то, что связывает эти две крайние области именно смысл. В нём особенность любого взгляда людей на мир как взгляда человеческого. Сказав это, я сопоставил две другие крайности – особенного (человеческого) и Общего (существующего). Из этой трещины рождается разлом НЕ-человечества, которое сделает любое мыслимое все-действующим.
И вот я рискнул Одним как общим– и, бросив его в горнило многообразий человеческого внутреннего мира, несмотря на всю пафосность этого жеста, выяснил, что Цвет как поле интуитивных восприятий (тех самых проекций Ничто на идеально-эмпирическое многое) внешнего и внутреннего миров в человеческом Я их (моего Я и миров) смыслами (то, что Евангелие называет «хранением мира в себе») может «вычисляться» как раз по формуле Ничто. Ничто оказалось в свою очередь идеальной формулой Цвета. Вот почему моё Вступление в учение о Цвете посвящено, прежде всего, проблеме Ничто.
Короче говоря, вся предыдущая «вечная философия», пёстрая и заплатанная, как обветшавший, но как прежде волшебный, разноцветный плащ прекрасного Иосифа из ветхозаветной истории про сыновей иудейских, должна быть переписана с позиций делающего их(и философию, и историю, и плащ) возможной Цвета, который, в свою очередь, может быть определён только философски. Ниже я только начну выяснять предпосылки такого переписывания и такого определения.
Для того, чтобы иметь представление о моей теории Цвета, которую я в виду ее философичности, следуя традиции, называю «учением», достаточно ознакомиться с этим Введением и Заключением. Тем же, кто желает занять себя ее головоломками, я предлагаю читать всё подряд.
Я хотел быть понятным всем, а потому перед вами лишь весьма свободные размышления, близкие к эссе, а точнее, к пост-прозе, которая для меня есть не литература слов, но движение осмысления, работа смысла по поводу вопроса, неожиданного выросшего в обоснование всех моих философских занятий в течение прошедших полутора лет (с весны 2012 года), в которые я с большими трудами, то так, то иначе, пробую найти точные слова для выражения своих интуиций о Цвете, которых до сих пор, если честно… нет.
- Благодарности | Рано или поздно амбиции побеждают мудрость – когда та захочет убедиться, а мудра ли она на самом деле, как об этом думает? Я задал себе этот вопрос в августе 1991 года, в Москве, купив на деньги брата Сергея томик Мераба Мамардашвили «Как я понимаю философию». Теперь мне предстояло не понять себя, а, напротив, для начала придумать такую головоломку, которая была бы достойна понимания и делала бы его воистину необходимым и желанным. В силах ли я и, правда, предложить собственный вопрос такой же силы и оригинальности, какой задали предыдущие философы – например, «как я мыслю себя?». Я не имею в виду лишь себя одного. Что вообще мы можем предложить в ответ на новации Платона, Канта, Деррида? Должен ли наш вопрос быть еще более оригинальным? И должен ли он вообще быть вопросом? Речь идёт здесь о будущей состоятельности философии как таковой, до сих пор развивавшейся, прежде всего, благодаря своим вечным проклятым вопросам.
Но не стоит ли тогда спросить, поняв, что мы мыслим уже как бы «после философии» – а что там, после сознания? Я считаю, что там – поле. Какое именно, я и буду тут выяснять. Пока же предположу, что это поле смысла и поле Цвета. Их суть – в даровании смысла до того, как тот станет необходимым.
Именно такой смысл всей метафизики тут и там – она дарится нам впрок, в рост, на будущее. С детства я именно так и покупал книги, еще до того, как мог бы их понять. Мне было важно верить в понимаемость мира, а не в его понимание. Я так благодарен Гегелю, что он вдохновил меня в 17 лет, что он спас меня тогда – и спасает до сих пор, и дарит свой Абсолютный Дух. О да, метафизика дарена мне впрок, а я попал с ней впросак. Я занялся ею в официальном институте. Отсюда моя благодарность Валентину Сергеевичу Лукьянцу, познакомившему меня с творчеством Жака Деррида, занимаясь которым 20 лет я имел себе хлеб с маслом. Мой особенный поклон Гуссерлю за его понятие «оттенок», который переводят как «нюанс» и которым он сам толковал как «переживание». У меня оттенок смысловой, и скорее, спонтанный переживаемый смысл, но не само переживание. Мой привет Блауштайну за незримую помощь в годину, когда я сам не верил, что у меня что-то получится – но его голубой томик взбодрил.
Пофиг модернизация дискурсов с практиками и новейшие гаджеты и другие драгоценные гады. Дело не в обновление особенностей новой эпохи и волны, а в том, что есть в том, как оно НЕ есть. Разумеется, такое не меняется. А значит, никакая перестройка метафизики невозможна – именно это и делает возможной ее как новейшую философию.
Несомненно, как жизнь есть и после смерти, так и философия есть после философии. Но, разумеется, это уже совсем иная философия. «Философия Цвета?» – переспросите вы. Я ценю вашу иронию, и потому промолчу.
Теперь вы поймёте истинную причину, по которой я хотел бы здесь поблагодарить своего брата – за книгу, свою сестру Ольгу – за телевизор (вы думали, наверное, за плащ?), Дмитрия Макаренко – за волнение, Светлану Алексюк – за спокойствие, Глеба Афендика – за шпильки и религиозный ритуал кефиродарения, жену Оксану – за простоту, Деррида – за то, что он был, маму Валентину Николаевну – за то, что она есть. И Л.Т. – за л.т.
- Бытие без «что»
Одиночество – это не отсутствие
другого, а присутствие себя
Мария Тындюк
Ничто – это не просто то, что не существует, но и вовсе никакое не то. В этой двуединости Ничто, предельно связывающей и взаимно обуславливающей его небытийность и его ничтойность, и вся его элементарная сложность.
Иначе говоря, у Ничто нету «что». Двусмысленный тезис, не правда ли? Суть в неопределённости и смутности такого примитивного понятия, как «что». Если у Ничто чего-то нету, а таково «что», тогда что-то, следовательно, «есть». Я беру это «есть» в кавычки, поскольку у Ничто ничего нету, а потому есть для Ничто не имеет смысла «есть». Так Ничто зависит от смысла «есть», определяя этим косвенно и смысл самого Ничто. У Ничто, иными словами, нету того, чем оно «есть», ведь у него нету смысла «есть». Но это лишь тогда когда смысл «есть» тождествен самому Бытию. А это устанавливается исключительно только лишь мышлением.
Поскольку «есть» у Ничто появляется только при мышлении о нём, дарящем ему врЕменное «что», наша мысль о Ничто и делает его проблемой, сталкивая в нём «есть» и «не есть». Если, конечно, считать, что только «что» единственно должно быть, тогда как «ничто», напротив, обречено «не быть».
Как известно, великий Парменид защищал тот же тезис и в той же его форме по отношению к Бытию и небытию –«этого нет никогда и нигде, чтоб не-сущее было», торжественно возглашает он гекзаметром, называя подобный способ мышления «путём испытаний» («О природе»28 В 8, ст. 43 – 45 D). Испытания нам тут еще действительно предстоят. Пока же запомним это общее место философии, но обратим внимание на его начало – «нет никогда и нигде». По сути, Парменид подразумевает под этим Ничто, связывая небытие не-бытия не через его само-тождественность, а через его неуместность, через невозможность «никогда и нигде» разместить существующее не-бытие. Бытие существует, а не-бытие не существует лишь потому, что мы устанавливает их существование не относительно каждого из них (тогда мы можем прийти к противоречию), а относительно их третьего – то есть, Ничто. Но ведь точно так же мы не могли определить друг через друга и Одно с его многим, обращаясь за помощью к тому же самому Ничто!
У Парменида Бытие едино, или иначе, Бытие есть Одно, поскольку когда нечто есть, оно есть именно как одно, как Это. Но определяя не-бытие, нам остаётся тот самый «путь испытаний», поскольку мы вынуждены всякий раз испытывать любые определения не-бытия его обращённостью к Бытию. Испытаний много – и определений не-бытия в виду его негативности тоже много, ибо путь отрицаний расширяет область определения, вовлекая в неё целый ряд вариантов определения и последовательно зачёркивая их, творя как бы поле того, что можем осмыслить, по крайней мере, мы сами. Ничто есть многое, ибо, как и не-бытие, предполагает ряд, последовательность, совокупность всего того, что в него не вошло. Для определения Ничто нам нужно множество отрицаемых им «что». Но если тут мы отрицаем чтойности существующих вещей, то в не-бытии мы, не отрицая эти чтойности, лишаем их существования. Поскольку все чтойности зависят от существования – для начала существования самих чтойностей, то «что» покоится на Бытии как на своём основании. Впрочем, еще неясно, тождественно ли Бытие чтойностей Бытию самих носящих эти чтойности вещей. Скорее всего, нам надо различать два этих Бытия, иначе существование вещи можно принять за ее чтойность, и тогда моя шапка на вешалке будет означать моё присутствие в комнате. Хотя шапка тут лишь знак моего возможного присутствия. Обычно принято отождествлять все бытийности в силу всеобщности Бытия. Такова аксиома классической метафизики. Но нас пока интересует лишь ее следствия.
В классическом тезисе «не-бытие не существует» отрицательный глагол есть фактически предикат «не-бытия», его «что». «Не-бытие» я беру здесь в кавычки, чтобы показать условность его существования. Ведь не-бытия нет исключительно и только для существования, тогда как для не-существования не-бытие есть! Та же ситуация была у нас и с Ничто. Выходит, что любое определение подобных фундаментальных и сверх-абстрактных понятий есть, по сути, формой условности, установки, подхода, намерения, доброй воли, а значит, следствие меры дееспособности самого сознания определяющих.
Итак, «что» можно отнести и к Бытию, и к не-бытию, хотя Платон в «Софисте» утверждает, что «небытие не должно быть отнесено к чему-либо из существующего» ( 1, С. 351), а ведь «что», безусловно, «есть». Очевидно, нам надо понять, в чём смысл самого «есть» как отношения, как связи. Для этого нам надо понять, к чему же тогда мы можем отнести Ничто, поскольку именно в ситуации Ничто, точнее, в вопросе о Ничто, само «есть» возникает для нас как проблема связи.
Однако логическая связь между «что» и его Бытием с самого начала кажется нам не очень надёжной. Иногда есть то, что не есть предметом (например, интуиция Вещи), а напротив – сам предмет совершенно очевидно не существует (например, Вещь как интуиция Вещи). Ведь Вещь не может существовать как интуиция. Отсюда следует, что вопрос о Ничто нельзя выстраивать по подобию с вопросом о Бытии. И причина этого опять же в проблематичности ответственности «что» всего существующего за его индивидуальное бытие. Ведь когда «что» конкретизирует Бытие сущего, оно подвергает определению некоторое всеобщее Бытие, которое невозможно определить так же конкретно, как это делает «что» бытия индивидуального.
Тогда почему вещь со сколь угодно (в пределе – бесконечно) неопределённым «что» и, следовательно, со сколь угодно неопределённым Бытием не может быть определена в качестве Ничто? Почему Бытие вовсе не есть определением Ничто? Притом здесь важно, что, возможно, и определяя Ничто сущностно, через логический предел (у Гегеля), Бытие никак не в силах определить его по смыслу, т.е. как культурную утопию и жизненную сверх-задачу. И ведь из этой невозможности определить Ничто из его существования, точнее, наличия, еще не следует невозможность вообще хоть как-то определить его. Отсюда проистекает лишь недостаточность указания на «что» как критерия Бытия, а значит, и отсутствие «что» не может быть единственным критерием наличия Ничто. Однако все остальные их критерии (такие, как идеальность, всеобщность, сознаваемость и т.д.) образуют вместе с указанным определённое поле смыслов, благодаря которому, говоря о Ничто, мы заведомо понимаем о чём идёт речь. То есть, в смысловом поле Ничто оно, это же точно Ничто, обладает неким приобретённым, привнесённым «что», позволяющим мыслить о нём и мыслить его. Однако, даже приобретя «что» нашей мысли, это наше чтоющее Ничто продолжает оставаться Ничто. Так, словно собственно Ничто делегировало в своё «что» не всего себя.
Если присутствие не-«что» и отсутствие «что» не являются безусловными критериями для определения Ничто, тогда ничтойно ли оно? Если предметна лишь мысль о Ничто, тогда беспредметно ли Ничто? Дело в том, что если Ничто есть «вообще ничего», то в таком разе оно не может быть и Ничто! Значит, Ничто – это особенное «что», которое на самом деле есть «в общем-то, ничего». И вот эта общность Ничто связывает его с Одно, намекая на хрупкое равновесие между «что» мысли о Ничто и не-«что» из того, что определяется в качестве Ничто. Ясно, что тогда Одно такого Ничто есть многое.
Таким образом, Ничто при каждом своём определении не стоит в стороне, а стоит ровно на той меже, на той заставе, что связывает область существования и область разнообразия, не склоняясь при этом ни в ту, ни в другую сторону. Именно там находит Ничто наша мысль о нём. Ничто нельзя обнаружить ни без «что» нашей мысли о нём, ни без не-«что» его негативных определений. Оно всегда одновременно и то, и другое. Мы называли «есть» самой фундаментальной связью нашего человеческого мира. Но и Ничто – так же есть не что иное, как подобная же связь – связь между ничтойностью и предметностью.
Очень важно осознавать при всём этом глубокое отличие «что» вещи от предмета мысли о ней (не о предмете). Предметом вещь становится при ее помышлении. Тогда как «что» вещи возникает при простом, даже случайном, необдуманном, ложном, мнимом, указании на неё, что само по себе может и не быть связано с ее помышлением. Отсюда «что» ближе к Ничто, так как независимо от мышления, тогда предмет характеризует лишь наше мышление о Ничто, мышление, которое может быть весьма разнообразным и неоднозначным, в отличие от «что» конкретной вещи. И вот Ничто может стать связью между ничтойностью и предметностью только в том случае, если оно само выражается некой абсолютной беспредметностью. Последнее есть выражение смысла Ничто, поскольку заведомо ставит под вопрос любую мысль о Ничто. А смысл Ничто как раз и есть абсолютное сомнение в любом его «что». Но как Ничто есть особенное «что», так и смысл Ничто есть особенное сомнение. Их особенность в том, что только Одно из определяющих Ничто «что» и только Одно из выражающих смысл Ничто сомнений в этих «что» существуют на самом деле. Но каковы они, мы знать не можем. Мы не знаем определённо, каково на самом деле Одно такого Ничто. Впрочем, нас на первых порах вполне удовлетворяет то, что оно у него вообще и в принципе есть.
Из сказанного следует существенная формальная определяемость Ничто. Чтобы абсолютная негативность Ничто не превратила его в Бытие, Ничто должно быть ничтойным. Чтобы абсолютная (всемогущая) мысль о Ничто не схватила его ничтойность до конца и без остатка, Ничто должно быть абсолютно беспредметным. Только тогда мысль о нём не будет исчерпывать его ничтойность как свой предмет. И только тогда смысл Ничто не станет переполнять его беспредметность как его «что». Отсюда два модуса Ничто – лишённость и неставшесть, отвечающие, соответственно, ничтойности и беспредметности. Отсюда же кардинальная роль нашего мышления в приручении и одомашнивании собственно Ничто как собственного (нашего) Ничто. Впрочем, тут я намного забежал вперёд своих рассуждений.
Поскольку наше мышление о Ничто, как и любое другое, погружено в поток времени, неразличимый от потока мыслей, имеющих в нём статус пока-мыслей, как ход времени неотличим от движения часовых стрелок, мы можем попытаться разрешить все противоречия и парадоксы мыслимости Ничто через временность такой мыслимости, подобно тому, как Хайдеггер пытался ответить на вопрос о Бытии обращением его к горизонту времени. Однако тут мы можем впасть в бесконечность, ведь сама стихия времени как раз и наличествует благодаря тому, что мы через неё попытаемся определить – благодаря Ничто. И всё дело в том, что такая обусловленность являет себя на самом элементарном уровне, далёком от итоговых пределов, в которых у Хайдеггера само Бытие отождествлялось с Ничто.
Я дерзну, определяя Ничто, не опираться… ни на что, а искать решения у самого моего способа определения – у определённости как таковой и у того, что составляет ее модусы, т.е. предмет определения, его «что» и их окрестности. Сразу надо отличить определённость от интенциональности (экстравертности нашего ума, его тяги вовне, в мир, к Другому), существующей лишь в сознании, и от фокусировки, значимой лишь для оптики умозрения. Я рассматриваю определение в координатах банального (одно-многое, бытие-небытие, что-ничто, ничто-получто, что-чёрт-те что) исключительно как до-сознательную геометрическую процедуру, такую архаическую, что она присутствовала еще до начала истории, и упоминавшуюся в качестве хорошо известной еще у египетских землемеров и вавилонских строителей. В определении важен простор и предел.
Каким же образом набор не точно и не верно определяющих определений Ничто в состоянии определить его, будучи взят в своей целокупности и сплетённости? Видимо, давая нам объёмную картину идеи Ничто, его смысловое поле помогает нам самим выработать собственную интуицию Ничто. Под смысловом полем я разумею пока всего лишь совокупность смысловых оттенков сути вопроса о Ничто. Мы начинаем понимать сколь угодно абстрактное Ничто только тогда, когда сами становимся его «автором», его «творцом», или грубо говоря, когда на свой страх и риск выбираем из всех смысловых оттенков вопроса только те, что, на наш взгляд, ближе всего к его определению (постановке). Главный результат этого всего заключается в той нераздельности вопроса о Ничто и поля его смыслов, которые не могут существовать друг без друга и всякий раз друг друга вызывают и провоцируют, этим собственно и образуя вопрос как область Неизвестного.
Сразу определимся в понимании, интерпретации и концептуализации ключевого понятия учения о Цвете – смысла. Гуссерлевская феноменология полагает смысл не в нём самом, а в его отличии от значения, предмета и содержания психического акта. Отсюда феноменологический дискурс развёртывается как «семантика выражений». Особенность феноменологической теории смысла рождается из проблемы предмета мышления, а точнее, из различия между ним и реально существующим объектом, мотивирующим мышление о предмете. Гуссерль находит оправдание своей феноменологии в проблематичности статуса «беспредметных представлений». Им показано, что редукция (сведение) всех представлений к своим предметам очень часто или уводит в бесконечность, или просто невозможна из-за невозможности создать их соответствующий духовно-психологический образ (коррелят). Отсюда следует необходимость говорить о содержании мысли, ее значении и ее предмете безотносительно к тому, можно ли выделить и выделить, оградить такой предмет хотя бы умственно. Чтобы получить свободу маневрировать по поводу вопроса о предмете мышления, Гуссерль очерчивает специальную концептуальную область феноменов, называемую им «полем трансцендентального чистого сознания» («Идеи к чистой феноменологии и феноменологической философии», том 3).
Если теперь вернуться к моим рассуждениям о Ничто как абсолютной беспредметности, станет ясно, что это его определение нуждается в существенном уточнении и по форме, и по сути. По форме нам нужно различать теперь беспредметность субъектную, которая находит примеры в упомянутых «беспредметных представлениях», и беспредметность объектную, т.е. собственно наше Ничто. Интуитивно такое различие понятно. Однако возникает вопрос об основании такого различения.
И вот тут главная неясность, а значит, как я заметил выше, особенность уточнения абсолютной беспредметности по сути. Оно-то как раз и является источником моего цветного определения смысла.
Дело в том, что неясность основания различия двух беспредметностей возникает из-за другой неясности – где устанавливать место нахождения источника мыслей. Очевидно, у мыслей есть источник, поскольку их может не быть, они могут быть разными и могут изменяться. И проблема не столько в том, откуда они исходят – из нашего сознания, или из его предмета, в котором мы уже «видим» их и узнаём, как родных, а в том, можно ли найти их (мыслей) предел. Однако предел я понимаю не как глухой тупик и стену, но как зависимость многого от Одного, когда, ограничивая друг друга, элементы многого проводят общую для них всех границу, чьи размеры зависят от силы взаимодействия между ними, как раз и приводящего к их ограничению. Примерно схожее можно видеть на любой живописной картине.
Собственно, любое определение основано на установлении предела, а потому найдя пределы мысли, мы можем определить ее по существу, а не только в связи с ее отношением к нашему сознанию как своему субъекту и ее предмету как ее объекту. Именно возможность установления предела позволит нам переходить от субъектных беспредметностей к объектным, а значит, разграничивать их независимо от понимания субъекта и объекта. То есть, независимо оттого, что именно понимается нами под субъектом и объектом. Именно вот этот самый твёрдый и недвусмысленный предел послужит для нас основанием для определения любого сколь угодно сложного и запутанного смысла. Применительно к цветовым ассоциациям или метафорам смыслов, указанный предел можно назвать их контуром.
Разумеется, этот, цветной, вариант теории смысла, совсем не единственный из всех возможных и наличных. Существеннаего укоренённость в Ничто как абсолютной беспредметности, которая становится мерой привнесения и обращения любых беспредметностей внутри некоторого ментального объёма смысловых полуфабрикатов, заготовок, шаблонов, матриц и зародышей понимания. Этот объём будем называть смысловым полем, имея в виду его отличие от знаковой структуры, текста, письма, представления, образа, сущности, идеи, картины, метафоры, эпистемы(познавательной матрицы у Фуко) и самого собственно феномена. Юрген Хабермас называет примерно то же пространство «резервуаром понимания», но я делаю акцент не столько на понимании как движущей силе осмысления, и даже не столько на пред-понимании, интуиции, нахождении себя в себе, т.е. на чувственной, душевной, личной ауре смысла, хотя они, конечно, ближе моей теории, сколько на потенции разнообразия сублимировать из себя Одно как разное-в-одном. Если сопоставить Одно с «резервуаром», то он будет наполнен не своими потенциями и качествами (в приведенном выше случае – смыслом), но своими отличиями от себя самого, представляемыми в виде жидкой стены (стены, имеющей вид жидкости), тем запасом стенности, с помощью которого можно устанавливать разделяющие стены между будущими сущностями и существами. Именно такое застенывание (своего рода – остекленение) мира и означает его понимание, когда наше сознание имеет возможность уединиться с миром или вещью один на один, сосредоточившись только на них. Понимание – это Один-очество со Всем.
Такая модель позволяет посмотреть на старую метафизику с точки зрения Одного, выражающего то же старое понятие «сущности», но обращённое уже не к «что» существующего, а к его Числу, к его количеству и последовательности. Если цель любой философии заключается в нахождении или изобретение языка описания проблем человека в мире, то переход от описания к картине из-ображения позволяет не привносить в этот мир человеческое, а высвобождать его из мира, вынимая его из мировых образов. Одно у меня фактически образ мира, в котором он принимается данностью моего понимания, т.е. даётся как Вещь, предназначенная для смыслового окрашивания и интонирования. Именно такой Цвет как концептуальный предел своих смысловых оттенков выступает центробежной силой, благодаря которой стенная жидкость (из моей модели) получает возможность затвердевать в виде разделяющих стен бесконечно разнообразного живого Лабиринта, а в нём, между его стенами, как раз и происходит встреча моего Я со своими многим. Благодаря стенам Одного это многое превращается у меня внутри в Каждое. Так «резервуар» имеет смысл не бесконечного ресурса человечности и человеческого, по сути, предопределяющего и зомбирующего будущие их возможности, чем они заведомо подавляются, но наделяет их правом уклоняться от любых предопределений, даря и свободу, и ответственность живой Конечности, в которой предел понимания становится методом углубления понимания.
Здесь кардинальное отличие упомянутого выше «резервуара понимания» от «пустого сосуда» (Иер. 51, 34), толкуемого в качестве дома лишённости и сада неставшести, этих оградах Ничто. Здесь мы сосредоточены на семенахсамо-осмысливающей Тишины, а не на языковых и разговорных потенциях пред-понимания (у Хабермаса) или пред-рассудка (у Гадамера). Понимание – лишь часть нахождения Я в самом себе. Ни крен в область личной трансценденции (у Канта), ни крен в область горизонтальных коммуникаций (у Хабермаса, Рорти и др.) не приводят к живому феномену. Чтобы понять его, надо пожертвовать не только его, но и своей жизнью. Однако есть способ избежать такого двойного умерщвления, это помыслить само по себе избегание как новую жизнь, бегущую, трепетную не жизнью, а желанием, так, чтобы избегание жизни и стало ее определением. Хотя Платон и предупреждал, вспоминая своё борцовское прошлое, согласно поговорке, о том, что «нелегко от всего увернуться» (в «Софисте»), и всё же «увёртывание» и есть один из приёмов непосредственной схватки и борьбы! Увёртка в борьбе почти то же, что ирония в разговоре. Я тоже вспоминаю о своём борцовском отрочестве с великой благодарностью опыта сопротивления, вынуждающего стать оригинальным, чтобы просто защититься.
Главное отличие моего подхода, так похожего на критикуемую Платоном софистику, в том, что, если брать не смысл как объект и элемент герменевтического дискурса, нацеленного на чистое понимание, а смысл, участвующий в любом творчестве и теоретизации, и, гораздо более, также в субъективном (жизненном) дискурсе, общежительном общении, и устанавливаемый через предельные манипуляции с представлениями и их предметами, то этот последний смысл всегда принципиально размыт и смутен, недостаточно точно определён при любом, сколь угодно тщательном, определении. Кажущееся противоречие между тем, что, с одной стороны, смысл устанавливается через предел, а, с другой, неопределёнен, а значит, не определяем им как своим пределом, снимается связью предела с беспредметностью. Не предмет устанавливает смысл в его отличии от значения и содержания мысли, а беспредметность будущих и возможных его установлений внутри творческих практик (пока беспредметных). Различая беспредметности в отношении к субъекту и объекту, предел позволяет вносить в эти беспредметность некую долю осмысленности. Но поскольку доля этой осмысленности не уточняется и остаётся неопределённой в ожидании конкретных герменевтических практик и ситуаций, она сама пребывает смутной и неопределённой. Однако таков любой смысл рабочего момента творчества и обыденной жизни в человеческом общежитии.
Начиная с Декарта, смысл всегда был равносилен некой минимальной, нулевой исходной очевидности. То, что очевидно, имеет вполне очевидный смысл. Но вот поле смыслов, напротив, испорчено бесконечностями и различиями. Его невозможно установить до тех пор, пока в нём не выработается первый конкретный смысл, предназначенный не для творчества, письма, науки, а для живого и непосредственного понимания и общения. Только тогда его смысловое поле получит свой контур и профиль. Только тогда разговор о Ничто получит основание в нём самом. Еще раз уточню – как.
Именно Ничто ставит под вопрос «что» как предмет. Это разновидность Кантовской трагедии вещи-в-себе, когда мы обречены постигать имена и смыслы, данные нами вещи, но не то, что ЗА ними, что там, в своём Один-очестве пребывает само по себе. Раскол между «что» как тем, как вещь сама видит себя, и предметом мысли о ней, в котором мы показываем себе то, какой сами видим ее своим умо-зрением, кажется на первый взгляд непреодолимым. Мы не можем войти внутрь Одно как в «что» вещи со стороны ее многого, с позиций ее разнообразных качеств, с боков ее множество «какое». Внутри вещи как Одно, понимаемого в виде того, чем вещь вещит себя, нет условий для связывания ее «что» с ее «какое». Такое связывание возможно лишь внутри нашего сознания, но там оно… не нужно. Ведь мы можем просто созерцать вещь такой, какой она просто есть, а не следить за ней, отмечая ее поведение и выделяя из него ее качества, и наблюдать за ней в специально устроенных обстоятельствах обыденной жизни или научного эксперимента.
Выход из этого тупика намечается при попытке определить его проблемность. Переход от тупика как факта к тупику как проблеме показывает нам, что мы сами заинтересованы чем-то в том, что мы не в силах преодолеть сознанием через понимание этого тупика. Так «что» вещи творит себе копию, прообраз, двойника в нашем сознании в обход механизма понимания. Копия «что» вещи в нас – это не ее «какое» для нас, а ее «то», в котором мы видим вещь «саму по себе» как «то самое», известное лишь нам одним. Вместо того, чтобы заваливать нас мусором своего качественного эмпирического разнообразия, вещь предлагает нам обратиться к Одно в нашем сознании. Такой переход возможен только потому, что Цвет многого, содержащегося в «что» вещи, и Цвет Одного, составляющего наблюдательную позицию моего сознания, совпадают по… Цвету. Это совпадение не есть тождество или одинаковость при совмещении (пространственная конгруэнтность), поскольку связывает не по сущностям и формам, но по смыслу, когда соответствующие структуры его выражения еще отсутствуют.
Я всюду говорю здесь о сознании, смутно сомневаясь, сознание ли это. Я мог бы сказать тут вместо сознания о душе, уме, духе, разуме, рассудке, наконец, о самом моём Я, и суть моих тезисов не на много бы изменилась, как и любых других подобных текстов, включая классические. Схожая ситуация распространяется на все философские тексты и все философские понятия и была отмечена как «синонимия» еще Деррида. Синонимия многого в Одном и одних делает в сущности своей понимание и сами тексты «не нужными»! Моя теория Цвета позволяет объяснить это, углубляясь в те «основания», с точки зрения которых тому, что есть на «самом деле», всё, в самом деле, «всё равно». Эти основания являются Ничто, а их тотальность вызвана их Цветом, толкуемом как «смысл» до понимания.
Поскольку мы ищем смысл Ничто не потому, что оно нам более неясно и туманно, чем Бытие, а потому, что его ничтойность не схватывается нами как предмет нашей мысли, а значит, вовсе не мысль в силах определить Ничто, потому то смутное «что», от какого отказывается и от какого уклоняется Ничто, вовсе нельзя отождествить с предметом нашей мысли о Ничто. Это значит, что мы вопрошаем о Ничто не потому, что оно нам неизвестно, а более потому, что оно входит в саму структуру любого нашего вопроса, как раз и состоящего в несоответствии мысли и ее предмета. Противоположная ситуация означала бы ответ.
Разумеется, из того, что у Ничто нету того, чем оно «есть», как можно понимать отсутствие у него «что», еще не следует, что у Ничто «есть» то, чем оно не есть. Мы уже пришли к выводу о том, что нельзя абсолютно определённо утверждать, что именно благодаря своему «что» любая вещь и любое существо «есть». В силу их «что» их просто на просто можно точнее определить. Однако проблема Ничто не только в том, что его невозможно никак определить, ведь точно также нельзя определить и Бытие (ввиду его всеобщности и сверх-абстрактности). У Ничто просто нет сущности, а потому ему всё равно, быть или не быть. Но как раз момент отсутствия сущности у Ничто вовсе не следует из его беспредметности, поскольку сущность не совпадает с предметом, а скорее, противоположна ему. Иначе мы впадём в солипсизм и мистику, хотя их трудно избежать в философии сознания, где, однако, нельзя всё-таки создавать ситуацию, в которой было бы проще поставить существование предмета в зависимость от степени его мыслимости, чем способствовать мыслимости самого предмета. А так ли уж мы мыслим предмет нашей мысли?
Вот почему такая возможность условного «есть» для Ничто не исключена. Во всяком случае, до тех пор, пока о Ничто можно мыслить. А значит, в рамках нашего мышления о Ничто оно оказывается для нас фундаментально ограничено, зажато своими смысловыми пределами, в отличие от Ничто вне мышления, называемого здесь собственно Ничто. Так ограниченность Ничто нашим мышлением делает мышление продуктивным и замкнутым, цельным, хотя и ценой ущерба собственно Ничто.
Пока мы в силах мыслить Ничто, мысля о нём, мы владеем своеобразными пока-мыслями Ничто. Причина такой конечности нашего мышления о бесконечном Ничто вовсе не в конечности акта мышления и конечности нашей жизни. Суть в том, что мы можем мыслить Ничто лишь до тех пор, пока можем его определять.
Однако размышляя так о Ничто с целью его определения, мы всего-навсего движемся в сторону его самоназвания, идя на поводу у того его имени, какое сами же ему и дали. Значит ли это, что дав иное имя Ничто, мы будем вынуждены иметь дело и с новым его смыслом? Где предел у такого бесконечного разнообразия того, что по сути своей противоположно любому разнообразию? Вот почему мыслить о Ничто – значит искать выход из ловушки его имени. Пока мы мыслим не смысл Ничто, а понимаем его имя, мы обречены определять Ничто «на слух», как фонему. Вот так вопрос о Ничто не на шутку ставит под вопрос всю возможность какого-либо понимания вообще!
Согласитесь, если Ничто есть в своём смысле, и его нет в его феномене, тогда смысл Ничто мы вынуждены понимать не как феномен нашего сознания, вне зависимости от степени его чистоты или порочности, но как условие и предпосылку любого понимания. А оно как раз и невозможно в случае Ничто, ибо мы понимаем лишь его смысл и лишь его имя. Нам нужно теперь искать из последних сил не «резервуар понимания», чтобы запастить из него нужными словами на любой случай, а наоборот – вытащить из далёкой сокровищницы наш старинный родовой «пустой сосуд», чтобы наполнить его своим отчаянием не-понимания самых общих мест, одним из коих и есть, безусловно, наше Ничто.
И вот Ничто не существует не потому, что у него нет Бытия, которого у него и на самом деле нет, а потому главным образом, что оно лишено своего «что».Ничто всегда «есть» это Ничто, а значит, хотя какая-то минимальная частица Бытия у него всё же есть – и связана она, если взять в скобки мышление о Ничто, исключительно с его Это. Но она такова, что само Это в случае Ничто особенное. Бытийствующее Это у него таково, что «что» этого Это стало не-бытием. Мы знаем, что у любого Это есть индивидуальное Бытие, составляющее «что» подобного Это. Чтобы такое «что» стало не-бытием, надо что-то совершить со смыслом «что», ведь по своей сущности «что» не может стать не-бытием, так как это противоречит определению сущности. Но переосмыслить «что» можно только в новой системе его представления – так, чтобы то, что имело Бытие, потеряло его и стало не-бытием. Для этого нам надо попытаться посмотреть на Это нашего Ничто с точки зрения Ничто. А значит, увидеть Это Ничто как Ничто, подобно Ничто. Но так, чтобы мы могли различать подобие и образец, и не потерять наше подлинное Ничто. Для этого его Это не должно существовать, а только являться (казаться, мниться, грезиться, фантазироваться) ему со стороны моего сознания. Вот почему смена системы представления Ничто оказывается для нас его смысловым перекрашиванием. Так, когда мы смотрим на крылышки бабочки под разным углом зрения, мы видим разные цветовые оттенки.
(продолжение следует)
- Начало смотри: © ВелеШтылвелдПресс : Андрей Беличенко: Формула Ничто, или Вы не видели случайно нигде мой антиментальный плащ? - http://agitprom2014.blogspot.com/2016/05/blog-post_18.html?spref=tw









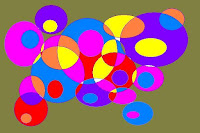

Комментариев нет:
Отправить комментарий